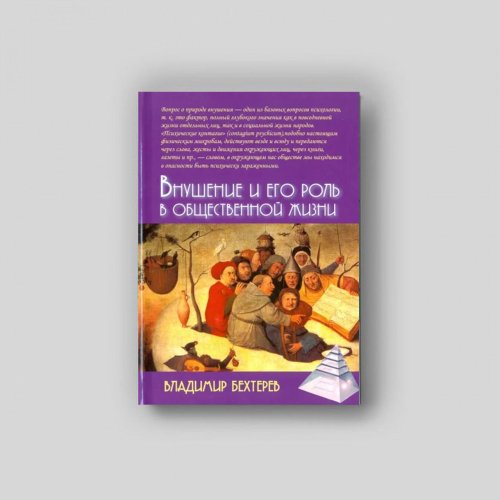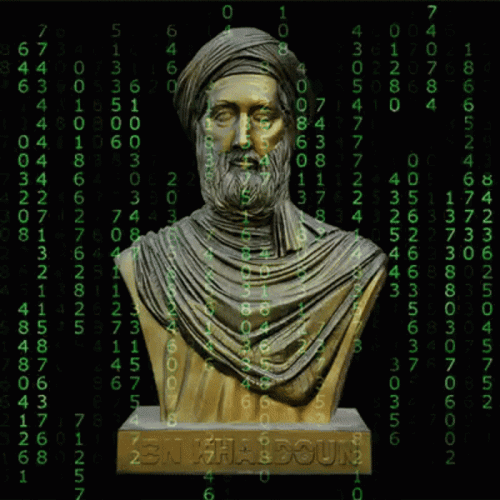Фридрих Август фон Хайек — один из классиков современного западного обществознания. Он всегда был непримиримым противником интеллектуальной моды, в какие бы одежды она ни рядилась, а это не могло не сказываться на его репутации.
Делом чести для Ф. Хайека стала защита «классического либерализма», неглубокого, как считалось, прекраснодушного и давно отжившего свой век течения мысли.
Книга увидела свет в далёком 1944 году. Читая её сейчас очень многое становится понятнее и, похоже, это произведение, которое никогда не потеряет своей актуальности.
Особая ценность мысли Хайека в том, что в своих рассуждениях он не пытался аргументировать то, что в его время и так было принято принимать без особых аргументов, а наоборот противостоял мейнстриму.
Да, сегодня только ленивый не ругает плановую экономику. Очень просто что-то понимать задним умом, говоря «это же очевидно, что всё шло к катастрофе!». Нет, не очевидно. Опасность тоталитаризма была очевидна единицам, в то время как миллионы были очарованы коммунистическими идеями.
И, как ясно осознает после «Дороги к рабству» Хайек, чтобы противостоять тоталитаризму, недостаточно ограничиться предупреждением о таящихся в нем опасностях — необходимо также отстоять жизнеспособность позитивной программы классического либерализма, показать правовую и политическую возможность осуществления идеалов свободного общества на практике.
Вступление
События современности тем отличаются от событий исторических, что мы не знаем, к чему они ведут.
Мышление большинства цивилизованных наций подвержено в основном одним и тем же влияниям, но проявляются они в разное время и с различной скоростью. Поэтому, переезжая из одной страны в другую, можно иногда дважды стать свидетелем одной и той же стадии интеллектуального развития.
Конечно, любые параллели между путями развития различных стран обманчивы. Но я утверждаю, что можно обуздать определенные тенденции, если вовремя дать людям понять, на что реально направлены их усилия.
Многие, отвергая нацизм как идеологию и искренне не приемля любые его проявления, руководствуются при этом в своей деятельности идеалами, воплощение которых открывает прямую дорогу к ненавистной им тирании.
Мы совершили множество опасных ошибок как до, так и после начала войны (WW2) только потому, что не понимали как следует своего противника. Складывается впечатление, что мы попросту не хотим понимать, каким путем возник тоталитаризм, потому что это понимание грозит разрушить некоторые дорогие нашему сердцу иллюзии.
I. Отвергнутый путь
Мы готовы принять любое объяснение кризиса, переживаемого нашей цивилизацией, но не можем допустить мысли, что этот кризис является следствием принципиальной ошибки, допущенной нами самими, что стремление к некоторым дорогим для нас идеалам приводит совсем не к тем результатам, на которые мы рассчитывали.
Идеи и человеческая воля сделали этот мир таким, каков он есть (хотя люди и не рассчитывали на такие результаты, но, даже сталкиваясь с реальностью фактов, не склонны были пересматривать свои представления).
Путь развития, на который мы ступили с самыми радужными надеждами, привел нас прямо к ужасам тоталитаризма. И это было жестоким ударом для целого поколения.
Но такой результат только подтверждает правоту основоположников философии либерализма, последователями которых мы все еще склонны себя считать. Мы последовательно отказались от экономической свободы, без которой свобода личная и политическая в прошлом никогда не существовала. И хотя величайшие политические мыслители XIX в. — де Токвиль и лорд Эктон — совершенно недвусмысленно утверждали, что социализм означает рабство, мы медленно, но верно продвигались в направлении к социализму.
Теперь же, когда буквально у нас на глазах появились новые формы рабства, оказалось, что мы так прочно забыли эти предостережения, что не можем увидеть связи между этими двумя вещами.
Нацистский лидер, назвавший национал-социалистическую революцию "контрренессансом", быть может, и сам не подозревал, в какой степени он прав. Это был решительный шаг на пути разрушения цивилизации, создававшейся начиная с эпохи Возрождения и основанной прежде всего на принципах индивидуализма.
Всюду, где рушились барьеры, стоявшие на пути человеческой изобретательности, люди получали возможность удовлетворять свои потребности, диапазон которых все время расширялся. И поскольку по мере роста жизненных стандартов в обществе обнаруживались темные стороны, с которыми люди уже не хотели мириться, процесс этот приносил выгоду всем классам.
Природа принципов либерализма не позволяет превратить его в догматическую систему. Здесь нет однозначных, раз и навсегда установленных норм и правил.
Основополагающий принцип заключается в том, что, организуя ту или иную область жизнедеятельности, мы должны максимально опираться на спонтанные силы общества и как можно меньше прибегать к принуждению. Принцип этот применим в бессчетном множестве ситуаций.
Позиции либерализма оказались ослаблены из-за того, что процесс совершенствования институциональной структуры свободного общества шел очень медленно. Процесс этот непосредственно зависит от того, насколько хорошо мы понимаем природу и соотношение различных социальных сил.
Мало-помалу либерализм приобрел славу "негативного" учения, ибо все, что он мог предложить конкретным людям, — это доля в общем прогрессе. При этом сам прогресс воспринимался уже не как результат политики свободы, а как нечто само собой разумеющееся.
Медлительность либеральной политики вызывала растущее недовольство. К этому добавлялось справедливое возмущение теми, кто, прикрываясь либеральными фразами, отстаивал антиобщественные привилегии.
Со временем все более широкое распространение получала точка зрения, что дальнейшее развитие невозможно на том же фундаменте, что общество требует коренной реконструкции. Речь шла при этом не о совершенствовании старого механизма, а о том, чтобы полностью его демонтировать и заменить другим. И поскольку надежды нового поколения сфокусировались на новых вещах, его представители уже не испытывали интереса к принципам функционирования существующего свободного общества, перестали понимать эти принципы и сознавать, гарантией чего они являются.
Примечательно, что эта смена умонастроений совпала с переменой направления, в котором идеи перемещались в пространстве. Но где-то около 1870 г. экспансии английских идей на Восток был положен предел. В течение следующих шестидесяти лет центром, где рождались идеи, распространявшиеся на Восток и на Запад, стала Германия.
В течение более чем двух столетий английская общественная мысль пробивала себе дорогу на Восток. Принцип свободы, реализованный в Англии, был, казалось, самой судьбой предназначен распространиться по всему свету. Однако в какой-то момент начала сдавать свои позиции.
Немецкая мысль всюду оказывалась ко двору, и все с готовностью начали воспроизводить у себя немецкие общественные установления. Большинство этих новых идей, в том числе идея социализма, родились не в Германии. Однако именно на немецкой почве они были отшлифованы и достигли своего наиболее полного развития.
Интенсивное влияние, которое оказывали все это время в мире немецкие мыслители, подкреплялось не только колоссальным прогрессом Германии в области материального производства, но, и даже в большей степени, огромным авторитетом немецкой философской и научной школы, завоеванным на протяжении последнего столетия, когда Германия вновь стала полноправным и, пожалуй, ведущим членом европейской цивилизации.
II. Великая утопия
Итак, социализм вытеснил либерализм и стал доктриной, которой придерживаются сегодня большинство прогрессивных деятелей.
Теперь редко вспоминают, что вначале социализм был откровенно авторитарным. Французские мыслители, заложившие основы современного социализма, ни минуты не сомневались, что их идеи можно воплотить только с помощью диктатуры. Социализм был для них попыткой "довести революцию до конца" путем сознательной реорганизации общества на иерархической основе и насильственного установления "духовной власти".
Что же касается свободы, то основатели социализма высказывались о ней совершенно недвусмысленно. Корнем всех зол общества XIX столетия они считали свободу мысли.
Чтобы усыпить подозрения и продемонстрировать причастность к сильнейшему из политических мотивов — жажде свободы, социалисты начали все чаще использовать лозунг "новой свободы". Наступление социализма стали толковать как скачок из царства необходимости в царство свободы.
Но хотя обещание этой новой свободы часто сопровождалось безответственным обещанием неслыханного роста в социалистическом обществе материального благосостояния, источник экономической свободы усматривался все же не в этой победе над природной скудостью нашего бытия. На самом деле обещание заключалось в том, что исчезнут резкие различия в возможностях выбора, существующие ныне между людьми. Требование новой свободы сводилось, таким образом, к старому требованию равного распределения богатства.
Обещание свободы стало, несомненно, одним из сильнейших орудий социалистической пропаганды, посеявшей в людях уверенность, что социализм принесет освобождение.
Тем более жестокой будет трагедия, если окажется, что обещанный нам Путь к Свободе есть в действительности Столбовая Дорога к Рабству.
Однако в последние годы наблюдатели один за другим стали отмечать поразительное сходство условий, порождаемых фашизмом и коммунизмом. Все больше людей стали задумываться, не растут ли эти новоявленные тирании из одного корня.
Уолтер Липпман приходит к выводу, что "наше поколение узнает теперь на собственном опыте, к чему приводит отступление от свободы во имя принудительной организации. Рассчитывая на изобилие, люди в действительности его лишаются. По мере усиления организованного руководства разнообразие уступает место единообразию. Такова цена планируемого общества и авторитарной организации человеческих дел".
Не менее показательна и интеллектуальная эволюция многих нацистских и фашистских руководителей. Всякий, кто наблюдал зарождение этих движений в Италии или в Германии, не мог не быть поражен количеством их лидеров, начинавших как социалисты, а закончивших как фашисты или нацисты. Еще более характерна такая биография для рядовых участников движения. Насколько легко было обратить молодого коммуниста в фашиста, и наоборот, было хорошо известно в Германии, особенно среди пропагандистов обеих партий.
Для тех, кто наблюдал за эволюцией от социализма к фашизму с близкого расстояния, связь этих двух доктрин проявлялась со все большей отчетливостью.
Только в демократических странах большинство людей по-прежнему считают, что можно соединить социализм и свободу.
Демократический социализм — эта великая утопия последних поколений — не только недостижим, но действия, направленные на его осуществление, приведут к результатам неожиданным и совершенно неприемлемым для его сегодняшних сторонников.
III. Индивидуализм и коллективизм
Прежде чем мы сможем двигаться дальше, надлежит прояснить одно недоразумение. Оно касается самого понятия "социализм".
Это слово нередко используют для обозначения идеалов социальной справедливости, большего равенства, социальной защищенности, т.е. конечных целей социализма.
Но социализм — это ведь еще и особые методы, с помощью которых большинство сторонников этой доктрины надеются этих целей достичь, причем, как считают многие компетентные люди, методы эффективные и незаменимые: упразднение частного предпринимательства, отмену частной собственности на средства производства и создание системы "плановой экономики", где вместо предпринимателя, работающего для получения прибыли, будут созданы централизованные планирующие органы.
Так вот спор идет скорее о средствах, чем о целях, хотя вопрос о том, могут ли быть одновременно достигнуты различные цели социализма, тоже иногда становится предметом дискуссий. Дело усугубляется еще и тем, что людей, отвергающих средства, часто обвиняют в пренебрежении к целям.
Популярность идеи "планирования" связана прежде всего с совершенно понятным стремлением решать наши общие проблемы по возможности рационально, чтобы удавалось предвидеть последствия наших действий. В этом смысле каждый, кто не является полным фаталистом, мыслит "планово". И всякое политическое действие — это акт планирования (по крайней мере должно быть таковым), хорошего или плохого, умного или неумного, прозорливого или недальновидного, но планирования.
Как следует из современных теорий планирования, недостаточно однажды создать рациональную систему, в рамках которой будут протекать различные процессы деятельности, направляемые индивидуальными планами ее участников.
Адепты планирования требуют централизованного управления всей экономической деятельностью, осуществляемой по такому единому плану, где однозначно расписано, как будут "сознательно" использоваться общественные ресурсы, чтобы определенные цели достигались определенным образом.
Либералы же говорят о необходимости максимального использования потенциала конкуренции для координации деятельности, а не призывают пускать вещи на самотек. Их доводы основаны на убеждении, что конкуренция, если ее удается создать, — лучший способ управления деятельностью индивидов.
Либералы решительно возражают против замены конкуренции координацией сверху. Они предпочитают конкуренцию не только потому, что она обычно оказывается более эффективной, но прежде всего по той причине, что она позволяет координировать деятельность внутренним образом, избегая насильственного вмешательства.
На первых порах борьба против конкуренции обещает породить нечто еще более неприемлемое, не устраивающее ни сторонников планирования, ни либералов, — что-то вроде синдикалистской или "корпоративной" формы организации экономики, при которой конкуренция более или менее подавляется, но планирование оказывается в руках у независимых монополий, контролирующих отдельные отрасли. Это неизбежный результат, к которому придут люди, объединенные ненавистью к конкуренции, но не согласные по всем остальным вопросам.
Независимое планирование, осуществляемое монополиями, приведет к последствиям, прямо противоположным тем, на которые уповают адепты плановой экономики.
Идея полной централизации управления экономикой все еще не находит отклика у многих людей, и не столько из-за чудовищной сложности этой задачи, сколько из-за ужаса, внушаемого мыслью о руководстве всем и вся из единого центра. И если мы, несмотря ни на что, все-таки стремительно движемся в этом направлении, то только в силу бытующего убеждения, что найдется некий срединный путь между "атомизированной" конкуренцией и централизованным планированием.
На первый взгляд идея эта кажется и привлекательной, и разумной. Действительно, может быть, не стоит стремиться ни к полной децентрализации и свободной конкуренции, ни к абсолютной централизации и тотальному планированию? Может быть, лучше поискать какой-то компромиссный метод?
Но здесь здравый смысл оказывается плохим советчиком. Хотя конкуренция и допускает некоторую долю регулирования, ее никак нельзя соединить с планированием, не ослабляя ее как фактор организации производства. Планирование в свою очередь тоже не является лекарством, которое можно принимать в малых дозах, рассчитывая на серьезный эффект.
И конкуренция, и планирование теряют свою силу, если их использовать в урезанном виде.
Планирование и конкуренция соединимы лишь на пути планирования во имя конкуренции, но не на пути планирования против конкуренции.
IV. Является ли планирование неизбежным?
Тенденция к монополии и планированию является вовсе не результатом каких бы то ни было "объективных обстоятельств". Это только продукт пропаганды определенного мнения, продолжавшейся в течение полувека и сделавшей это мнение доминантой нашей политики.
Последовательно продвигаясь к плановому обществу, немцы и другие народы, берущие с них пример, следуют курсом, проложенным мыслителями XIX в., в основном немецкими. Таким образом, интеллектуальная история последних шестидесяти-восьмидесяти лет может служить блестящей иллюстрацией к тезису:
в общественном развитии нет ничего "неизбежного" и только мышление делает его таковым.
Легко контролировать или планировать несложную ситуацию, когда один человек или небольшой орган в состоянии учесть все существующие факторы. Но если таких факторов становится настолько много, что их невозможно ни учесть, ни интегрировать в единой картине, тогда единственным выходом является децентрализация. А децентрализация сразу же влечет за собой проблему координации. Нужен какой-то механизм, автоматически регистрирующий все существенные последствия индивидуальных действий и выражающий их в универсальной форме.
Именно таким механизмом является в условиях конкуренции система цен, и никакой другой механизм не может его заменить. Наблюдая движение сравнительно небольшого количества цен, как наблюдает инженер движение стрелок приборов, предприниматель получает возможность согласовывать свои действия с действиями других.
И если разделение общественного труда достигло уровня, делающего "возможным существование современной цивилизации, этим мы обязаны только тому, что оно было не сознательно спланировано, а создано методом, такое планирование исключающим.
Поэтому и всякое дальнейшее усложнение этой системы вовсе не повышает акций централизованного руководства, а, наоборот, заставляет нас больше, чем когда бы то ни было, полагаться на развитие, не зависящее от сознательного контроля.
Проигрывая, быть может, в настоящем, мы сохраняем потенциал для развития в будущем. Ведь даже заплатив сегодня высокую цену за свободу выбора, мы создаем гарантии завтрашнего прогресса, в том числе материального, который находится в прямой зависимости от разнообразия, ибо никто не знает, какая линия развития может оказаться перспективной.
Главный довод в пользу свободы заключается в том, что мы должны всегда оставлять шанс для таких направлений развития, которые просто невозможно заранее предугадать.
Из этого со всей определенностью следует, что если мы хотим эту свободу сберечь, мы должны охранять ее ревностно и быть всегда готовыми к жертвам во имя свободы.
Современное движение в защиту планирования обязано своей силой тому, что пока планирование остается мечтой, оно привлекает толпы идеалистов — всех, кто готов положить свою жизнь на осуществление какой-то заветной цели. Надежды, которые они возлагают на планирование, — результат очень узкого понимания общественной жизни, воспринимаемой ими сквозь призму своих идеалов. Это не уменьшает ценности таких людей в свободном обществе вроде нашего, где они вызывают справедливое восхищение. Но именно те, кто больше всех призывает к планированию, станут самыми опасными, если им это разрешить. И самыми нетерпимыми к попыткам других людей осуществлять планирование. Потому что от праведного идеалиста до фанатика — всего один шаг.
V. Планирование и демократия
Выстраивая всю нашу деятельность по единому плану, мы приходим к необходимости ранжировать все наши потребности и свести их в систему ценностей настолько полную, чтобы она одна давала основание для единственного выбора. Это предполагало бы существование полного этического кодекса, в котором были бы представлены и должным образом упорядочены все человеческие ценности.
В жизни мы постоянно и привычно совершаем ценностный выбор, и никакой социальный кодекс не указывает нам критерии такого выбора. Однако
там, где все средства являются собственностью общества, где ими можно пользоваться только во имя общества и в соответствии с единым планом, "общественный подход" начинает доминировать в ситуации принятия решения.
Для нас несущественно, стремится человек к достижению цели для удовлетворения личной потребности, бьется за благо ближнего или воюет за счастье многих, т.е. нам не интересно, альтруист он или эгоист. Но вот неспособность человека охватить больше, чем доступное ему поле деятельности, неспособность одновременно принимать во внимание неограниченное количество необходимостей — вот что важно, вот что существенно для нашего дальнейшего рассуждения.
Способности человеческого воображения, бесспорно, ограничены. Поэтому
любая частная шкала ценностей является малой частицей во множестве всех потребностей общества.
В силу этого индивидуальные ценностные шкалы различны и находятся в противоречии друг с другом. Отсюда индивидуалист делает вывод, что индивидам следует позволить в определенных пределах следовать скорее своим собственным склонностям и предпочтениям, нежели чьим-то еще, и что в этих пределах склонности индивида должны иметь определяющий вес и не подлежать чьему-либо суду.
Такая позиция не исключает, конечно, признания существования общественных целей или скорее наличия таких совпадений в нуждах индивида. То, что мы называем "общественной целью", есть просто общая цель многих индивидов, или, иначе, такая цель, для достижения которой работают многие и достижение которой удовлетворяет их частные потребности.
Когда государство начинает осуществлять прямой контроль в той области, в которой не было достигнуто общественного соглашения, это приводит к подавлению индивидуальных свобод.
При таких обстоятельствах не остается индивидуальной цели, достижение которой не ставилось бы в зависимость от деятельности государства, и "общественная шкала ценностей", направляющая и регулирующая деятельность государства, должна учитывать все индивидуальные нужды.
Составление экономического плана связано с выбором между конфликтующими, соперничающими задачами удовлетворения различных потребностей различных людей.
При плановой системе мы не можем свести весь объем деятельности только к тем сферам, где согласие уже достигнуто, но должны искать и достигать согласия в каждом частном случае, иначе вся вообще деятельность становится неосуществимой.
Демократическое же устройство требует, чтобы сознательный контроль осуществлялся только там, где достигнуто подлинное согласие, в остальном мы вынуждены полагаться на волю случая — такова плата за демократию.
VI. План и закон
Пожалуй, ничто не свидетельствует так ярко об особенностях жизни в свободных странах, отличающих их от стран с авторитарным режимом, как соблюдение великих принципов правозаконности.
Если отбросить детали, это означает, что правительство ограничено в своих действиях заранее установленными гласными правилами, дающими возможность предвидеть с большой точностью, какие меры принуждения будут применять представители власти в той или иной ситуации. Исходя из этого индивид может уверенно планировать свои действия.
И хотя этот идеал полностью воплотить невозможно, ибо те, кто принимает законы, и те, кто их исполняет, — живые люди, которым свойственно ошибаться, но смысл принципа достаточно ясен: сфера, где органы исполнительной власти могут действовать по своему усмотрению, должна быть сведена к минимуму.
Зная правила игры, индивид свободен в осуществлении своих личных целей и может быть уверен, что власти не будут ему в этом мешать.
Экономическое планирование коллективистского типа с необходимостью рождает нечто прямо противоположное. Планирующие органы не могут ограничиться созданием возможностей, которыми будут пользоваться по своему усмотрению какие-то неизвестные люди. Они не могут действовать в стабильной системе координат, задаваемой общими долговременными формальными правилами, не допускающими произвола. Ведь они должны заботиться об актуальных, постоянно меняющихся нуждах реальных людей, выбирать из них самые насущные, т.е. постоянно решать вопросы, на которые не могут ответить формальные принципы.
Когда правительство должно определить, сколько выращивать свиней или сколько автобусов должно ездить по дорогам страны, какие угольные шахты целесообразно оставить действующими или почем продавать в магазинах ботинки — все такие решения нельзя вывести из формальных правил или принять раз и навсегда. Они неизбежно зависят от обстоятельств, меняющихся очень быстро. И принимая такого рода решения, приходится все время иметь в виду сложный баланс интересов различных индивидов и групп. В конце концов кто-то находит основания, чтобы предпочесть одни интересы другим. Эти основания становятся частью законодательства. Так рождаются привилегии, возникает неравенство, навязанное правительственным аппаратом.
Обозначенное только что различие между формальным правом (или юстицией) и "постановлениями по существу дела", принимаемыми вне рамок процессуального права, является чрезвычайно важным и в то же время очень трудным в практическом применении. Между тем сам принцип довольно прост.
Разница здесь такая же, как между правилами дорожного движения и распоряжениями, куда и по какой дороге людям ехать:
то, что мы действительно не знаем, каким будет результат применения этих правил, какие люди найдут их полезными, заставляет нас формулировать их так, чтобы они были как можно более полезными для всех, как можно более универсальными.
Это и есть самое важное свойство формальных правил. Они не связаны с выбором между конкретными целями или конкретными людьми, ибо мы заранее не знаем, кто будет их использовать.
Общие правила, т.е. подлинные законы, кардинально отличные от постановлений и распоряжений, должны, следовательно, создаваться так, чтобы они могли работать в неизвестных заранее обстоятельствах. А значит, и результаты их действия нельзя знать наперед. В этом и только в этом смысле законодатель должен быть беспристрастным.
Быть беспристрастным означает не иметь ответов на вопросы, для решения которых надо подбрасывать монету.
Поэтому в мире, где все заранее предсказано и известно, правительство всегда оказывается пристрастным.
Если в момент принятия закона известен его результат, такой закон уже не является инструментом, который свободный человек может использовать по своему усмотрению. Это инструмент, с помощью которого законодатель воздействует на людей, преследуя свои цели.
Нет никаких сомнений, что планирование неизбежно влечет сознательную дискриминацию, ибо оно определяет законодательно, что могут иметь и делать те или иные индивиды и каким должно быть благосостояние конкретных людей. Практически это означает возврат к системе, где главную роль в жизни общества играет социальный статус, т.е. происходит поворот истории вспять, ибо, как гласит знаменитое изречение Генри Мейна, "развитие передовых обществ до сих пор всегда шло по пути от господства статуса к господству договора".
Правозаконность в еще большей степени, чем договор, может считаться противоположностью статусной системы. Потому что
государство, в котором высшим авторитетом является формальное право и отсутствуют закрепленные законом привилегии для отдельных лиц, назначенных властями, гарантирует всеобщее равенство перед законом, являющее собой полную противоположность деспотическому правлению.
Когда перед всеми гражданами открываются одинаковые объективные возможности, это не означает, что их субъективные шансы равны. Никто не будет отрицать, что Правозаконность ведет к экономическому неравенству, однако она не содержит никаких замыслов или умыслов, обрекающих конкретных людей на то или иное положение.
Можно утверждать, что с позиций правозаконности практика применения правила без всяких исключений является в определенном смысле более важной, чем содержание самого правила.
Данное правило позволяет нам предсказывать поведение других людей. А это возможно, если все выполняют его неукоснительно даже в тех случаях, когда оно может показаться несправедливым.
Концепция правозаконности сознательно разрабатывалась лишь в либеральную эпоху и стала одним из ее величайших достижений, послуживших не только щитом свободы, но и отлаженным юридическим механизмом ее реализации. Как сказал Иммануил Кант: "человек свободен, если он должен подчиняться не другому человеку, но закону".
Когда мы говорим, что в планируемом обществе нет места правозаконности, это не означает, что там отсутствуют законы или что действия правительства нелегальны. Речь идет только о том, что действия аппарата насилия, находящегося в руках у государства, никак не ограничены заранее установленными правилами. Закон может (а в условиях централизованного управления экономикой должен) санкционировать произвол. Если законодательно установлено, что такой-то орган может действовать по своему усмотрению, то, какими бы ни были действия этого органа, они являются законными. Но не правозаконными.
Итак, принципы правозаконности накладывают определенные требования на характер самих законов. Они допускают общие правила, известные как формальное право, и исключают законы, прямо нацеленные на конкретные группы людей или позволяющие кому-то использовать для такой дискриминации государственный аппарат.
VII. Экономический контроль и тоталитаризм
Чтобы руководить сложной системой взаимосвязанных действий многих людей, нужна, с одной стороны, постоянная группа экспертов, а с другой — некий главнокомандующий, не связанный никакими демократическими процедурами и наделенный всей полнотой ответственности и властью принимать решения. Это очевидные следствия идеи централизованного планирования, и ее сторонники вполне отдают себе в этом отчет, утешая нас тем, что речь идет "только" об экономике.
Например, Стюарт Чейз, один из ведущих представителей этого направления, заявляет, что в планируемом обществе "может существовать политическая демократия во всем, что не касается экономической жизни". Такого рода высказывания сопровождаются обычно заверениями, что, расставшись со свободой в сфере, которая не так уж важна, мы обретем гораздо большую свободу в сфере высших ценностей.
Однако
вера в то, что власть над экономической жизнью — это власть над вещами несущественными и, следовательно, не надо принимать близко к сердцу потерю свободы в этой области, увы, не имеет под собой оснований.
Ибо она вырастает из ошибочного представления, что есть какие-то чисто экономические задачи, изолированные от других жизненных задач.
Конечные цели деятельности разумных существ всегда лежат вне экономической сферы. Строго говоря, нет никаких "экономических мотивов", ибо экономика — это только совокупность факторов, влияющих на наше продвижение к иным целям. И если мы хотим заработать деньги, то только потому, что они дают нам свободу выбирать, какими будут плоды наших трудов.
Колебания нашей экономической ситуации затрагивают лишь очень небольшую, "маргинальную" часть наших потребностей. Есть много вещей гораздо более важных, чем те, на которые влияют наши экономические успехи или неудачи, — вещей, которые мы ценим больше, чем экономический комфорт или даже предметы первой необходимости. В сравнении с ними "презренный металл" и наше экономическое благополучие представляются не слишком существенными. Это и заставляет многих людей думать, что планирование, затрагивающее только экономическую сторону дела, не может угрожать фундаментальным жизненным ценностям.
Но такое заключение ошибочно.
Экономические ценности только потому не имеют для нас большого значения, что, решая экономические вопросы, мы имеем возможность выбирать, что для нас важно, а что — нет.
Иначе говоря, потому, что в нашем обществе мы сами, лично решаем свои экономические проблемы.
Если же наши экономические действия окажутся под контролем, то мы не сможем сделать и шага, не заявляя о своих намерениях и целях. Но, заявив о намерениях, надо еще доказать их правомерность, чтобы получить санкцию у властей. Таким образом, под контролем оказывается вся наша жизнь.
Поэтому проблема экономического планирования не ограничивается только вопросом, сможем ли мы удовлетворить свои потребности так, как мы этого хотим. Речь идет о том, будем ли мы сами решать, что для нас важно, или это будут решать за нас планирующие инстанции. Планирование затронет не только те наши маргинальные нужды, которые мы обычно имеем в виду, говоря о "чистой" экономике. Дело в том, что нам как индивидам не будет позволено судить, что является для нас маргинальным.
Власти, управляющие экономической деятельностью, будут контролировать отнюдь не только материальные стороны жизни. В их ведении окажется распределение лимитированных средств, необходимых для достижения любых наших целей.
И кем бы ни был этот верховный контролер, распоряжаясь средствами, он должен будет решать, какие цели достойны осуществления, а какие — нет. В этом и состоит суть проблемы.
Экономический контроль неотделим от контроля над всей жизнью людей, ибо, контролируя средства, нельзя не контролировать и цели.
Монопольное распределение средств заставит планирующие инстанции решать и вопрос о ценностях, устанавливать, какие из них являются более высокими, а какие — более низкими, а в конечном счете — определять, какие убеждения люди должны исповедовать и к чему они должны стремиться.
Так называемая экономическая свобода, которую обещают нам сторонники планирования, как раз и означает, что мы будем избавлены от тяжкой обязанности решать наши собственные экономические проблемы, а заодно и от связанной с ними проблемы выбора. Выбор будут делать за нас другие. И поскольку в современных условиях мы буквально во всем зависим от средств, производимых другими людьми, экономическое планирование будет охватывать практически все сферы нашей жизни.
Свобода выбора в конкурентном обществе основана на том, что если кто-то отказывается удовлетворить наши запросы, мы можем обратиться к другому. Но сталкиваясь с монополией, мы оказываемся в ее полной власти.
А орган, управляющий всей экономикой, будет самым крупным монополистом, которого только можно себе представить.
Он будет наделен абсолютным правом решать, что мы сможем получать и на каких условиях. Он будет не только решать, какие товары и услуги станут доступными для нас и в каком количестве, но будет также осуществлять распределение материальных благ между регионами и социальными группами, имея полную власть для проведения любой дискриминационной политики.
В конкурентном обществе цена, которую мы платим за вещь, зависит от сложного баланса, учитывающего множество других вещей и потребностей.
Эта цена никем сознательно не устанавливается. И если какой-то путь удовлетворения наших потребностей оказывается нам не по карману, мы вправе испробовать другие пути.
В обществе с управляемой экономикой, где власти осуществляют надзор за целями граждан, они, очевидно, будут поддерживать одни намерения и препятствовать осуществлению других. И то, что мы сможем получить, зависит не от наших желаний, а от чьих-то представлений о том, какими они должны быть.
Но власти будут руководить нами не только и не столько как потребителями. В еще большей степени это будет касаться нас как производителей. Два этих аспекта нашей жизни нераздельны. И поскольку большинство людей проводит значительную часть времени на работе, а место работы и профессия нередко определяют, где мы живем и с кем общаемся, то свобода в выборе работы часто оказывается более существенной для нашего ощущения благополучия, чем даже свобода тратить наши доходы в часы досуга.
Конечно, даже в лучшем из миров эта свобода будет существенно ограничена. Лишь очень немногие могут считать себя действительно свободными в выборе занятий. Важно, однако, чтобы у нас был хоть какой-то выбор, чтобы мы не были привязаны к конкретному месту работы, которого мы не выбирали или выбрали в прошлом, но теперь хотим от него отказаться. Если нас влечет другая работа, у нас должна быть возможность, пусть ценой какой-то жертвы, попробовать приложить свои силы в другом месте.
Ничто в такой мере не делает условия невыносимыми, как уверенность, что мы не можем их изменить.
И даже если нам никогда недостает смелости принести жертву, сознание, что мы могли бы изменить свою жизнь такой ценой, облегчало бы наше положение.
Большинство сторонников планирования обещают, что в обществе нового типа свобода выбора занятий будет сохранена на нынешнем уровне и даже расширена. Но вряд ли они смогут выполнить это обещание. Планирование не может не ставить под контроль приток рабочей силы в те или иные отрасли, либо условия оплаты труда, либо и то и другое. Во всех известных случаях планирования эти ограничительные меры были в числе первоочередных.
Люди хотят верить, что экономические проблемы можно решить раз и навсегда. Поэтому они доверчиво воспринимают безответственные обещания "потенциального изобилия", которое, если бы оно вдруг возникло, действительно избавило бы их от необходимости выбирать.
Но хотя эта пропагандистская уловка существует столько, сколько существует социализм, в ней за это время не прибавилось ни грамма истины.
Даже многие экономисты социалистической ориентации после серьезного изучения проблемы централизованного планирования вынуждены довольствоваться надеждой, что производительность в этой системе будет не ниже, чем в конкурентной. И они более не защищают планирование как способ достижения высшей производительности, но только говорят, что оно позволит распределять продукцию более равномерно и справедливо. И это единственный аргумент, который еще может быть предметом дискуссии.
Остается только один вопрос:
не будет ли ценой, которую мы заплатим за осуществление чьих-то идеалов справедливости, такое угнетение и унижение, которого никогда не могла породить критикуемая ныне "свободная игра экономических сил"?
Сейчас разделение труда достигло таких масштабов, что практически всякая наша индивидуальная деятельность является теперь частью общественной. Поэтому оно не сможет ограничиться тем, что мы называем нашей экономической деятельностью, поскольку в любой сфере нашей жизни мы теперь крайне зависимы от экономической деятельности других.
Призывы к "коллективному удовлетворению потребностей", которыми наши социалисты устилают дорогу к тоталитаризму, — это средство политического воспитания, имеющего целью подготовить нас к практике удовлетворения наших потребностей и желаний в установленное время и в установленной форме.
Экономическая свобода, являющаяся необходимой предпосылкой любой другой свободы, в то же время не может быть свободой от любых экономических забот. А именно это обещают нам социалисты, часто забывая добавить, что они заодно освободят нас от свободы выбора вообще.
Экономическая свобода — это свобода любой деятельности, включающая право выбора и сопряженные с этим риск и ответственность.
VIII. Кто кого?
Примечательно, что один из самых распространенных упреков в адрес конкуренции состоит в том, что она "слепа". В этой связи уместно напомнить, что у древних слепота была атрибутом богини правосудия.
Однако, выбор, перед которым мы сегодня стоим, — это не выбор между системой, где все получат заслуженную долю общественных благ в соответствии с неким универсальным стандартом, и системой, где доля благ, получаемых индивидом, зависит в какой-то мере от случая.
Конечно, в конкурентном обществе перед богатыми открыты более широкие возможности, чем перед бедными. Но только окончательно позабыв, что означает несвобода, можно не замечать очевидного факта, что неквалифицированный и низкооплачиваемый рабочий в нашей стране обладает неизмеримо большими возможностями изменить свою судьбу, чем многие мелкие предприниматели в Германии или высокооплачиваемые инженеры в России.
Изымая средства производства у частных лиц и передавая их государству, мы поставим государство в положение, когда оно будет вынуждено распределять все доходы. Власть, предоставленная таким образом государству для целей "планирования", будет огромной. И неверно думать, что власть при этом просто перейдет из одних рук в другие. Это будет власть совершенно нового типа, незнакомая нам, ибо в конкурентном обществе ею не наделен никто.
Наше поколение напрочь забыло простую истину, что частная собственность является главной гарантией свободы, причем не только для тех, кто владеет этой собственностью, но и для тех, кто ею не владеет.
Власть надо мной мультимиллионера, живущего по соседству и, может быть, являющегося моим работодателем, гораздо меньше, чем власть маленького чиновника, за спиной которого стоит огромный аппарат насилия и от чьей прихоти зависит, где мне жить и работать. Кто станет отрицать, что мир, где богатые имеют власть, лучше, чем мир, где богаты лишь власть имущие?
Несомненно, легче сносить неравенство, если оно является результатом действия безличных сил. И оно сильнее ранит достоинство человека, когда является частью какого-то замысла.
Безработица или сокращение доходов, неизбежные в любом обществе. Каким бы горьким ни был такой опыт в условиях конкуренции, в планируемом обществе он будет, безусловно, горше, ибо там одни индивиды будут судить о других, являются ли те полезными.
Плохо быть винтиком в безликой машине, но неизмеримо хуже быть навсегда привязанным к своему месту и к начальству, которого ты не выбирал. Недовольство человека своей долей возрастает многократно от сознания, что его судьба зависит от действий других.
Все наши усилия, направленные на улучшение нашего положения, будут продиктованы не стремлением предвидеть неконтролируемые обстоятельства и подготовиться к ним, а желанием завоевать благосклонность начальства. Кошмар, предсказанный английскими политическими мыслителями XIX в., — государство, в котором "путь к преуспеянию и почету пролегает только через коридоры власти".
Кто планирует и кто выполняет план? Кто руководит и кто подчиняется? Кто устанавливает нормы жизни для других и кто живет так, как ему велено жить? Все это может решать только верховная власть.
Очевидно, что правительство, взявшееся руководить экономикой, будет использовать свою власть для осуществления какого-то идеала справедливого распределения. Но как оно будет это делать? Какими будет руководствоваться принципами? Как правило, людям трудно поверить, что у нас нет моральных принципов, позволяющих решать такие вопросы, — если и не абсолютно надежно, то по крайней мере более удовлетворительно, чем они решаются в конкурентной системе.
В самом деле, разве у нас нет представлений о "правильной цене" или "справедливом вознаграждении"? И разве не можем мы довериться свойственному людям чувству справедливости? Ведь даже если сейчас мы и не пришли к согласию насчет того, что является справедливым в каком-то конкретном случае, разве не вырастут стандарты справедливости из общих моральных представлений, когда люди увидят, как их идеи воплощаются в жизнь?
К сожалению, для этих надежд нет оснований. Те стандарты, которые у нас есть, порождены конкурентной системой и не могут не исчезнуть вместе с ней. То, что мы называем справедливой ценой или справедливым вознаграждением, — это попросту привычные цена или вознаграждение, которых мы вправе ожидать, опираясь на прошлый опыт, или же такие цена и вознаграждение, которые существовали бы в отсутствие монополии.
Для успешного планирования нужна единая, общая для всех система ценностей — именно поэтому ограничения в материальной сфере так непосредственно связаны с потерей духовной свободы.
Социалисты надеются решить проблему традиционно — путем воспитания. Но что способно здесь дать воспитание?
Мы можем сегодня с уверенностью сказать, что знания не создают этических ценностей, что никаким обучением нельзя заставить людей придерживаться одинаковых взглядов на моральные проблемы, которые возникнут в результате сознательной регуляции всех аспектов жизни общества. Оправдать конкретный план может не рациональное убеждение, но только слепая вера.
И в самом деле, социалисты сами первыми признали, что задачи, которые они перед собой ставят, требуют единого мировоззрения, единой системы ценностей.
Вовсе не фашисты, а социалисты стали собирать детей, начиная с самого нежного возраста, в политические организации, чтобы воспитывать их как настоящих пролетариев. Социалисты первыми настояли, чтобы члены партии приветствовали друг друга и обращались друг к другу, используя специальные формулы. Униформа и военизированные "штурмовые отряды" — не более чем повторение того, что уже задолго до этого было изобретено социалистами.
IX. Свобода и защищенность
Независимый ум или сильный характер редко встречается у людей, не уверенных, что они смогут сами себя прокормить. Стремление к абсолютной защищенности сплошь и рядом не только не повышает шансов свободы, но и становится для нее серьезной угрозой.
Подходя к этой проблеме, надо с самого начала различать два рода защищенности: ограниченную, которая достижима для всех и потому является не привилегией, а законным требованием каждого члена общества, и абсолютную защищенность, которая в свободном обществе не может быть предоставлена всем и не должна выступать в качестве привилегии, — за исключением некоторых специальных случаев, таких, например, как необходимые гарантии независимости судей, имеющие в их деятельности первостепенное значение.
Иными словами, есть всеобщий минимальный уровень дохода и есть уровень дохода, который считается "заслуженным" или "положенным" для определенного человека или группы.
Второй тип защищённости — абсолютный — описан выше.
В обществе, которое достигло такого уровня благосостояния, как наше, нет никакого сомнения, что определенный минимум в еде, жилье и одежде, достаточный для сохранения здоровья и работоспособности, может быть обеспечен каждому. Точно так же ничто не мешает государству помогать гражданам, ставшим жертвами непредвиденных событий, от которых никто не может быть застрахован.
Наконец, есть еще в высшей степени серьезная проблема борьбы с последствиями спадов в экономической активности и сопровождающим их ростом массовой безработицы.
Планирование, опасное для свободы, — это планирование во имя защищенности второго рода — абсолютного. Его цель — застраховать отдельных индивидов или группы от того, что является нормой и случается сплошь и рядом в обществе, основанном на принципе конкуренции, — от уменьшения уровня их доходов.
В обществе, где распределение труда основано на свободном выборе людьми своих занятий, вознаграждение должно всегда соответствовать пользе, приносимой тем или иным тружеником в сравнении с другими, даже если при этом не учитываются его субъективные достоинства.
Да, когда доход человека падает, а надежды рушатся, хотя он трудился в поте лица и был мастером своего дела, это, несомненно, оскорбляет наше чувство справедливости. Однако если мы хотим сохранить свободу выбора занятий, мы не можем гарантировать стабильность доходов для всех. А если такие гарантии даются лишь части граждан, они оказываются в привилегированном положении, причем за счет остальных, чья относительная защищенность очевидно снижается.
Если защищать тех, чей труд стал менее полезным в силу обстоятельств, которые они не могли предвидеть или предотвратить, компенсируя их убытки, и в то же время ограничивать доходы тех, чья полезность возросла, то вознаграждение очень быстро теряет всякую связь с реальной общественной пользой. Оно будет зависеть только от взглядов авторитетных чиновников, от их представлений о том, чем должны заниматься те или иные люди.
Однажды было верно подмечено, что если при конкурентной экономике последней инстанцией является судебный исполнитель, то при плановой экономике — палач.
Директор завода в плановой экономике будет наделен значительными полномочиями. Но его положение и доход будут столь же независимы от успеха или неудач вверенного ему предприятия, как положение и доход рабочего. И поскольку не он рискует и не он выигрывает, то решающим фактором является не его личное мнение и забота об интересах дела, а некая правилосообразность его поведения.
Пока человек следует по безопасному пути "честного выполнения своего служебного долга", он может быть уверен в стабильности своего дохода гораздо больше, чем частный предприниматель. Однако стоит ему поскользнуться — и последствия будут хуже, чем банкротство.
Такого рода безопасность неизбежно сопряжена с потерей свободы и с иерархическими отношениями армейского типа. Это безопасность казарм и бараков.
Действия правительства, предоставляющего привилегии защищенности то одной социальной группе, то другой, очень быстро могут привести к созданию условий, в которых стремление получить гарантии экономической стабильности окажется сильнее, чем любовь к свободе.
Чем больше мы стремимся обеспечить всеобщую экономическую защищенность, воздействуя на механизмы рынка, тем меньше оказывается реальная защищенность людей. И, что гораздо хуже, это приводит к усилению контраста между положением привилегированной части общества и положением тех, кто лишен привилегий. А кроме того, превращение защищенности в привилегию делает ее все более и более желанной.
Рост числа привилегированных людей и углубление разрыва между ними и остальным обществом рождают совершенно новые социальные установки и ценности.
Когда не независимость и свобода, а экономическая защищенность определяет социальный статус человека, тогда девушки стремятся выйти замуж не за того, кто полезен обществу, а за человека, имеющего гарантированную зарплату.
Когда все зашло так далеко, свобода превращается почти что в издевательство, так как обрести ее можно, только отказавшись от всех земных благ. Люди, доведенные до такого состояния, начинают думать, что "свобода ничего не стоит", и они с радостью принесут ее в жертву, променяв на гарантии защищенности.
Нам надо опять учиться смелости, ибо мы должны без страха признать, что за свободу приходится платить и каждый должен быть готов ради свободы идти на материальные жертвы.
И надо вновь вспомнить слова Бенджамина Франклина, выражающие кредо англосаксонских стран, но равно применимые как к странам, так и к людям: "Те, кто в главном отказываются от свободы во имя временной безопасности, не заслуживают ни свободы, ни безопасности".
X. Почему к власти приходят худшие?
Теперь мы сосредоточим внимание на одном убеждении, благодаря которому многие начинают считать, что тоталитаризм неизбежен, а другие теряют решимость активно ему противостоять. Речь идет о весьма распространенной идее, что самыми отвратительными своими чертами тоталитарные режимы обязаны исторической случайности, ибо у истоков их каждый раз оказывалась кучка мерзавцев и бандитов. Разве не могут во главе тоталитарной системы стоять порядочные люди, которые, думая о благе всего общества, будут действительно решать грандиозные задачи?
Пусть это звучит не очень разумно, но почему бы не поддержать диктатуру хороших людей? Ведь тоталитаризм — это эффективная система, которая может действовать как во зло, так и во благо — в зависимости от того, кто стоит у власти.
Есть все основания полагать, что худшие проявления существующих ныне тоталитарных систем вовсе не являются случайными, что рано или поздно они возникают при любом тоталитарном правлении.
Диктатор в условиях тоталитаризма должен неминуемо выбирать между отказом от привычных моральных принципов и полным политическим фиаско. Именно поэтому в обществе, где возобладали тоталитарные тенденции, люди нещепетильные, а, попросту говоря, беспринципные имеют гораздо больше шансов на успех.
Мы поставим вопрос несколько иначе: какими станут моральные принципы в результате победы коллективистского принципа организации общества, какие нравственные убеждения при этом возобладают?
Мы часто думаем, что если наше стремление к коллективизму продиктовано высокими моральными побуждениями, то и само общество, основанное на принципах коллективизма, станет средоточием добродетелей. Между тем непонятно, почему система должна обладать теми же достоинствами, что и побуждения, которые привели к ее созданию.
Вернемся на минуту к состоянию, предшествующему подавлению демократических институтов и созданию тоталитарного режима. На этой стадии доминирующим фактором является всеобщее недовольство правительством, которое представляется медлительным и пассивным, скованным по рукам и ногам громоздкой демократической процедурой. В такой ситуации, когда все требуют быстрых и решительных действий, наиболее привлекательным для масс оказывается политический деятель (или партия), кажущийся достаточно сильным, чтобы "что-то предпринять". Так на политической арене и возникает партия нового типа, организованная по военному образцу.
Возможность установления тоталитарного режима во всей стране во многом зависит от способности лидера сплотить вокруг себя группу людей, готовых добровольно подчиняться строгой дисциплине и силой навязывать ее остальным.
На самом деле социалистические партии были достаточно мощными, и если бы они поставили перед собой цель, осуществить которую могли только люди, готовые преступить любые общепринятые нравственные барьеры.
В плановом обществе речь идет не о согласии большинства, но лишь о согласованных действиях одной, достаточно большой группы, готовой управлять всеми делами.
Есть три причины, объясняющих, почему такая относительно большая и сильная группа людей с близкими взглядами будет в любом обществе включать не лучших, а худших его представителей.
Прежде всего, чем более образованны и интеллигентны люди, тем более разнообразны их взгляды и вкусы и тем труднее ждать от них единодушия по поводу любой конкретной системы ценностей. Следовательно, если мы хотим достичь единообразия взглядов, мы должны вести поиск в тех слоях общества, для которых характерны низкий моральный и интеллектуальный уровень, примитивные, грубые вкусы и инстинкты.
Людей этих объединяет, так сказать, наименьший общий нравственный знаменатель. И если нам нужна по возможности многочисленная группа, достаточно сильная, чтобы навязывать другим свои взгляды и ценности, мы никогда не обратимся к людям с развитым мировоззрением и вкусом.
Однако если бы потенциальный диктатор полагался исключительно на людей с примитивными и схожими инстинктами, их оказалось бы все-таки слишком мало для осуществления поставленных задач. Поэтому он должен стремиться увеличить их число, обращая других в свою веру.
И здесь в силу вступает второй негативный критерий отбора:
проще всего обрести поддержку людей легковерных и послушных, не имеющих собственных убеждений и согласных принять любую готовую систему ценностей, если только ее как следует вколотить им в голову, повторяя одно и то же достаточно часто и достаточно громко.
Таким образом, ряды тоталитарной партии будут пополняться людьми с неустойчивыми взглядами и легко возбудимыми эмоциями.
Третий и, быть может, самый важный критерий необходим для любого искусного демагога, стремящегося сплотить свою группу. Человеческая природа такова, что люди гораздо легче приходят к согласию на основе негативной программы — будь то ненависть к врагу или зависть к преуспевающим соседям, чем на основе программы, утверждающей позитивные задачи и ценности.
"Мы" и "они", свои и чужие — на этих противопоставлениях, подогреваемых непрекращающейся борьбой с теми, кто не входит в организацию, построено любое групповое сознание, объединяющее людей, готовых к действию.
Одно из внутренних противоречий коллективистской философии заключается в том, что, поскольку она основана на гуманистической морали, развитой в рамках индивидуализма, областью ее применения могут быть только относительно небольшие группы. В теории социализм интернационален, но как только дело доходит до его практического применения, будь то в России или в Германии, он оборачивается оголтелым национализмом.
Если общество или государство поставлены выше, чем индивид, и имеют свои цели, не зависящие от индивидуальных целей и подчиняющие их себе, тогда настоящими гражданами могут считаться только те, чьи цели совпадают с целями общества. Из этого неизбежно следует, что человека можно уважать лишь как члена группы, т.е. лишь постольку и в той мере, в какой он способствует осуществлению общепризнанных целей. Этим, а не тем, что он человек, определяется его человеческое достоинство.
Коллективистское сообщество является возможным, только если существует или может быть достигнуто единство целей всех его членов.
Одним из наиболее важных является то обстоятельство, что стремление отождествить себя с группой чаще всего возникает у индивида вследствие чувства собственной неполноценности, а в таком случае принадлежность к группе должна позволить ему ощутить превосходство над окружающими людьми, которые в группу не входят.
Человек все чаще склонен считать себя моральным, потому что он переносит свои пороки на все более и более обширные группы.
Действуя от имени группы, человек освобождается от многих моральных ограничений, сдерживающих его поведение внутри группы.
Власть, необходимая для осуществления плана, не просто делегируется, она еще тысячекратно усиливается. Сосредоточив в руках группы руководящих работников власть, которая прежде была рассредоточена среди многих, мы создаем не только беспрецедентную концентрацию власти, но и власть совершенно нового типа. В конкурентном обществе никто не обладает даже сотой долей той власти, которой будет наделен в социалистическом обществе центральный планирующий орган.
Конкурентная экономика является на сегодняшний день единственной системой, позволяющей минимизировать путем децентрализации власть одних людей над другими.
Нет буквально ничего, что не был бы готов совершить последовательный коллективист ради "общего блага", поскольку для него это единственный критерий моральности действий. Коллективистская этика выразила себя наиболее явно в формуле "raison d'Etat" (государственная необходимость (франц.)).
Было бы, однако, в высшей степени несправедливо считать, что в тоталитарных государствах народные массы, оказывающие поддержку системе, которая нам представляется аморальной, начисто лишены всяких нравственных побуждений. Для большинства людей дело обстоит как раз противоположным образом: моральные переживания, сопровождающие такие движения, как национал-социализм или коммунизм, сопоставимы по своему накалу, вероятно, лишь с переживаниями участников великих исторических религиозных движений. Но если мы допускаем, что индивид — это только средство достижения целей некоторой высшей общности, будь то "общество" или "нация", все ужасы тоталитарного строя становятся неизбежными.
Нетерпимость и грубое подавление всякого инакомыслия, полное пренебрежение к жизни и счастью отдельного человека — прямые следствия фундаментальных предпосылок коллективизма.
Там, где существует одна общая высшая цель, не остается места ни для каких этических норм или правил.
Граждане тоталитарного государства совершают аморальные действия из преданности идеалу. И хотя идеал этот представляется нам отвратительным, тем не менее их действия являются вполне бескорыстными. Этого, однако, нельзя сказать о руководителях такого государства.
Чтобы участвовать в управлении тоталитарной системой, недостаточно просто принимать на веру благовидные объяснения неблаговидных действий. Надо самому быть готовым преступать любые нравственные законы, если этого требуют высшие цели. И поскольку цели устанавливает лишь верховный вождь, то всякий функционер, будучи инструментом в его руках, не может иметь нравственных убеждений. Главное, что от него требуется, — это безоговорочная личная преданность вождю, а вслед за этим — полная беспринципность и готовность буквально на все.
И если людей, по нашим меркам достойных, не привлекут высокие посты в аппарате тоталитарной власти, это откроет широкие возможности перед людьми жестокими и неразборчивыми в средствах.
Будет много работы, про которую станет известно, что она "грязная", но что она необходима для достижения высших целей и ее надо выполнять четко и профессионально, как любую другую. И поскольку такой работы будет много, а люди, еще имеющие какие-то моральные убеждения, откажутся ее выполнять, готовность взяться за такую работу станет пропуском к карьере и власти.
XI. Конец правды
Чтобы все служили единой системе целей, предусмотренных социальным планом, лучше всего заставить каждого уверовать в эти цели.
Для успешной работы тоталитарной машины одного принуждения недостаточно. Важно еще, чтобы люди приняли общие цели как свои собственные.
Это, конечно, достигается различными видами пропаганды, приемы которой сегодня настолько хорошо всем известны, что вряд ли стоит об этом говорить. Вся она подчинена одной цели, поэтому и производимый ею эффект отличается не только количественно, но и качественно от эффекта пропаганды, осуществляемой множеством независимых субъектов, преследующих различные цели.
Даже самые разумные и независимые в суждениях личности не могут полностью избежать пропагандистского влияния.
И если бы ее воздействие ограничивалось навязыванием системы ценностей, одобряемых властями, она была бы просто проводником коллективистской морали. Но тоталитарная пропаганда приводит и к более серьезным последствиям, разрушительным для всякой морали вообще, ибо она затрагивает то, что служит основой человеческой нравственности: чувство правды и уважение к правде.
Кроме того, тоталитарная пропаганда должна распространяться и на область фактов, к которым человеческое сознание находится уже в совсем другом отношении.
Дело здесь вот в чем. Во-первых, чтобы заставить людей принять официальные ценности, их надо обосновать, т.е. показать их связь с другими очевидными ценностями, а для этого нужны суждения о причинной зависимости между средствами и целями.
Во-вторых, поскольку различие целей и средств является на деле вовсе не таким определенным и ясным, как в теории, людей приходится убеждать не только в правомерности целей, но и в необходимости конкретных путей их достижения и всех, связанных с этим, обстоятельств.
И хотя тот, кто принимает решения, может руководствоваться при этом всего лишь собственными предрассудками, какой-то общий принцип здесь все же должен быть публично заявлен, ибо люди должны не просто пассивно подчиняться проводимой политике, а активно ее поддерживать. Таким образом,
деятельность индивидов, осуществляющих планирование, направляется за неимением ничего лучшего их субъективными предпочтениями,
которым, однако, надо придать убедительную, рациональную форму, способную привлечь как можно больше людей. Для этой цели формулируются суждения, связывающие между собой определенные факты, т.е. создаются специальные теории, которые становятся затем составной частью идеологической доктрины.
Этот процесс создания "мифа", оправдывающего действия властей, не обязательно является сознательным. Лидер тоталитарного общества может руководствоваться просто инстинктивной ненавистью к существующему порядку вещей и желанием создать новый иерархический порядок, соответствующий его представлениям о справедливости.
Необходимость создания официальных доктрин, являющихся инструментом воздействия на жизнь целого общества и всех его членов, была обоснована многими теоретиками тоталитаризма.
Чтобы люди действительно принимали ценности, которыми они должны беззаветно служить, лучше всего убедить их, что это те самые ценности, которых они (по крайней мере самые достойные из них) придерживались всегда, только до сих пор интерпретация этих ценностей была неверной. Тогда они начнут поклоняться новым богам в уверенности, что новый культ отвечает их чаяниям — тому, что они смутно чувствовали всегда. В такой ситуации самый простой и эффективный прием— использовать старые слова в новых значениях.
Больше всего страдает, конечно, слово "свобода", которое в тоталитарных странах используют столь же часто, как в либеральных.
"Коллективная свобода", о которой все они ведут речь, — это не свобода каждого члена общества, а ничем не ограниченная свобода планирующих органов делать с обществом все, что они пожелают.
Это смешение свободы с властью, доведенное до абсурда.
То же самое происходит с "законом" и "справедливостью", "правами" и "равенством". Список этот можно продолжать до тех пор, пока в него не войдут практически все широко бытующие этические и политические категории.
Изменение значений слов становится пропагандистским приемом, сознательным или бессознательным, используется вновь и вновь, постоянно смещая все смысловые ориентиры. По мере того как этот процесс набирает силу, язык оказывается выхолощенным, а слова превращаются в пустые скорлупки, значения которых могут свободно изменяться на прямо противоположные.
Несложно лишить большинство людей способности самостоятельно мыслить. Но надо еще заставить молчать меньшинство, сохранившее волю к разумной критике.
А любая критика или сомнения будут решительно подавляться, ибо они могут ослабить единодушие.
Все каналы распространения знаний — школа и печать, радио и кинематограф — будут использоваться исключительно для пропаганды таких взглядов, которые независимо от их истинности послужат укреплению веры в правоту властей. При этом всякая информация, способная посеять сомнения или породить колебания, окажется под запретом.
Не останется буквально ни одной области, где не будет осуществляться систематический контроль информации, направленный на полную унификацию взглядов.
В условиях тоталитаризма в гуманитарных дисциплинах, таких, как история, юриспруденция или экономика, не может быть разрешено объективное исследование и единственной задачей становится обоснование официальных взглядов. Во всех тоталитарных странах эти науки стали самыми продуктивными поставщиками официальной мифологии, используемой властями для воздействия на разум и волю граждан.
Тоталитарный контроль распространяется, однако, и на области, не имеющие на первый взгляд политического значения. В частности, в них наблюдается устойчивая негативная реакция на абстрактные формы мышления.
Журнал "За марксистско-ленинское естествознание" пестрит заголовками типа "За партийность в математике" или "За чистоту марксистско-ленинского учения в хирургии".
Осуждение любой деятельности, не имеющей очевидной практической цели, соответствует самому духу тоталитаризма.
Наука для науки или искусство для искусства равно ненавистны нацистам, нашим интеллектуалам-социалистам и коммунистам. Основанием для всякой деятельности должна быть осознанная социальная цель. Любая спонтанность или непроясненность задач нежелательны, так как они могут привести к непредвиденным результатам, противоречащим плану.
Какими бы ни казались невероятными подобные извращения, мы должны ясно отдавать себе отчет, что это отнюдь не случайные отклонения, никак не связанные с сутью тоталитарной системы. Наоборот к этому неизбежно приводят попытки подчинить все и вся "единой концепции целого", стремление поддержать любой ценой представления, во имя которых людей обрекают на постоянные жертвы.
Как объяснил нацистский министр юстиции, всякая новая научная теория должна прежде всего поставить перед собой вопрос: "Служу ли я национал-социализму?"
Трудно понять, не испытав на собственном опыте, все своеобразие интеллектуальной атмосферы тоталитарного строя — свойственные ей цинизм и безразличие к истине, исчезновение духа независимого исследования и веры в разум.
Конечно, стремление навязать людям веру, которая должна стать для них спасительной, не является изобретением нашей эпохи. Новыми являются, пожалуй, только аргументы, которыми наши интеллектуалы пытаются это обосновать.
Возможно, это и верно, что большинство людей не способны мыслить самостоятельно, что они в основном придерживаются общепринятых убеждений и чувствуют себя одинаково хорошо, исповедуя взгляды, усвоенные с рождения или навязанные в результате каких-то более поздних влияний.
Свобода мысли в любом обществе играет важную роль лишь для меньшинства. Но это не означает, что кто-либо имеет право определять, кому эта свобода может быть предоставлена.
Никакая группа людей не может присваивать себе власть над мышлением и взглядами других.
Нельзя отрицать ценность свободы мысли на том основании, что она не способна дать всем равные возможности, ибо суть этой свободы как перводвигателя интеллектуального развития вовсе не в том, что каждый имеет право говорить или писать все что угодно, а в том, что любая идея может быть подвергнута обсуждению.
Этот процесс взаимодействия индивидов, обладающих различным знанием и стоящих на различных точках зрения, и является основой развития мысли. Социальная природа человеческого разума требует поэтому разномыслия.
По самой своей сути результаты мышления не могут быть предсказуемы, ибо мы не знаем, какие представления будут способствовать интеллектуальному прогрессу, а какие — нет.
Поэтому "планирование" или "организация" интеллектуального развития, как и всякого развития вообще, — это абсурд, противоречие в терминах.
Мысль, что человеческий разум должен "сознательно" контролировать собственное развитие, возникает в результате смешения представлений об индивидуальном разуме, который только и может что-либо "сознательно контролировать", с представлениями о межличностном и надличностном процессе, благодаря которому это развитие происходит. Пытаясь его контролировать, мы лишь устанавливаем пределы развитию разума, что рано или поздно приведет к интеллектуальному застою и упадку мышления.
Трагедия коллективистской мысли заключается в том, что, постулируя вначале разум как верховный фактор развития, она в конце приходит к его разрушению, ибо неверно трактует процесс, являющийся основой движения разума.
Смирение перед социальными силами и терпимость к различным мнениям, характерные для индивидуализма, являются тем самым полной противоположностью интеллектуальной гордыне, стоящей за всякой идеей единого руководства общественной жизнью.
XII. Социалистические корни нацизма
Существует распространенное заблуждение, что национал-социализм — это просто бунт против разума, иррациональное движение, не имеющее интеллектуальных корней.
Однако такая точка зрения не имеет под собой никаких оснований. Доктрина национал-социализма является кульминационной точкой длительного процесса развития идей, в котором участвовали мыслители, известные не только в Германии.
На протяжении ста пятидесяти лет это направление периодически возрождалось, демонстрируя поразительную и зловещую живучесть. Однако до 1914 г. значение его было невелико. Этих взглядов придерживалось незначительное меньшинство, а у большинства немцев они вызывали не меньшее презрение, чем у всех остальных народов.
Почему же эти убеждения реакционного меньшинства получили в конечном счете поддержку большинства жителей Германии и практически целиком захватили умы ее молодого поколения?
Начиная с 1914 г. из рядов марксистов один за другим стали выдвигаться проповедники, обращавшие в национал-социалистическую веру уже не консерваторов и реакционеров, а рабочих и идеалистически настроенную молодежь. И только после этого волна национал-социализма, достигнув своего апогея, привела к появлению гитлеризма.
Первым и, пожалуй, наиболее характерным представителем этого направления является покойный профессор Вернер Зомбарт, чья нашумевшая книга "Торгаши и герои" вышла в свет в 1915 г. Этот заслуженный социалист приветствует в своей книге "Германскую войну", которая является, по его мнению, неизбежным выражением конфликта между коммерческим духом английской цивилизации и героической культурой Германии. Его презрение к "торгашеству" англичан, начисто утративших военный дух, поистине не знает границ, ибо нет ничего более постыдного, чем стремление к индивидуальному благополучию.
"До 1914 г., — рассуждает далее Зомбарт, — подлинно германские героические идеалы находились в небрежении и опасности, исходившей от английских коммерческих идеалов, английского образа жизни и английского спорта. Англичане не только сами окончательно разложились, так что каждый профсоюзный деятель по горло увяз в трясине комфортабельной жизни, но и начали заражать другие народы. Только война напомнила немцам, что они являются нацией воинов, народом, вся деятельность которого (в особенности экономическая) связана в конечном счете с военными целями. Есть жизнь более высокая, чем жизнь личности, и это жизнь нации и государства. А предназначение индивида — приносить себя в жертву этим высшим ценностям."
Иоганн Пленге был столь же авторитетным марксистом, как и Зомбарт. Его книга "Маркс и Гегель" положила начало гегельянскому ренессансу среди ученых-марксистов. Для Пленге, как и для большинства социалистов, черпающих свои идеалы из приложения технических представлений к проблемам общественной жизни, организация составляет сущность социализма: "военная экономика, созданная в Германии в 1914 г., — первый опыт построения социализма, ибо ее дух — активный, а не потребительский — это подлинный социалистический дух."
Вначале профессор Пленге еще надеялся примирить идеал свободы с идеалом организации путем полного, хотя и добровольного, подчинения индивида обществу. Но вскоре всякие остатки либерализма исчезают из его трудов: "когда в мире идет война между народами, самым важным, по сути решающим для социализма является вопрос: какая из наций более всех предрасположена к власти, какая из них может служить примером и организатором для других?"
Очень похожие идеи высказывались в кругах, близких к немецкому сырьевому диктатору Вальтеру Ратенау. Его труды оказали наибольшее влияние на экономические воззрения того поколения немцев, которое сформировалось во время и сразу после войны.
Но честь развить эти идеи с наибольшей полнотой и добиться их повсеместного распространения выпала на долю представителя левого крыла социал-демократической партии в Рейхстаге Пауля Ленша: "Социализм получил признание как высший принцип общественного устройства. Социализм наступает и в какой-то мере уже наступил потому, что мы больше не можем без него существовать". И этой тенденции сегодня противятся только либералы: "Люди, составляющие этот класс, бессознательно ориентируются на английские стандарты. К ним можно отнести всю немецкую просвещенную буржуазию. Их политический словарь, включающий такие термины, как "свобода", "права человека", "конституция", "парламентаризм", выражает индивидуалистское либеральное мировоззрение, английское по своему происхождению. Но эти понятия безнадежно устарели, как и в целом либерализм. От этого наследия теперь надлежит избавиться, чтобы обратиться всецело к разработке новых понятий Государства и Общества".
Идеи Пленге и Ленша проложили дорогу для уже непосредственных творцов национал-социализма, таких, как — назовем лишь два наиболее известных имени — Освальд Шпенглер и Артур Меллер ван ден Брук.
Шпенглер далее пишет следующее: "В Пруссии существовало подлинное государство в самом высоком смысле этого слова. Там не было частных лиц. Всякий человек, живший внутри этой системы, которая работала с точностью часового механизма, выполнял в ней какую-то функцию. Поэтому управление делами общества не могло находиться в руках частных лиц, как того требует парламентаризм. Станет ли в будущем торговля управлять государством или государство — торговлей? В решении этого вопроса пруссачество и социализм совпадают ... Пруссачество и социализм борются с Англией — Англией среди нас".
Апостолу национал-социализма Меллеру ван ден Бруку оставалось после этого сделать только один шаг, объявив первую мировую войну войной между либерализмом и социализмом: "Мы проиграли войну с Западом: социализм потерпел поражение от либерализма. Либерализм — это философия, от которой немецкая молодежь отворачивается с презрением, с гневом, с характерной усмешкой, ибо нет ничего более чуждого, более отвратительного, более противного ее умонастроениям."
Эти авторы не были одиноки: они двигались в общем потоке идей, захвативших Германию.
Идея борьбы с либерализмом — тем либерализмом, который победил Германию, — носилась в воздухе и объединяла социалистов и консерваторов, выступавших в итоге единым фронтом. Первоначально эта идея была с готовностью воспринята немецким молодежным движением, где доминировали социалистические умонастроения и где родился первый сплав социализма с национализмом.
XIII. Тоталитаристы среди нас
Размах, который приобретает произвол в странах с тоталитарным режимом, вместо того чтобы увеличивать опасения, что то же самое может случиться и в более просвещенных странах, наоборот, укрепляет уверенность в том, что это невозможно. Когда мы сравниваем Англию с нацистской Германией, контраст оказывается настолько разительным, что мы не можем допустить и мысли, что в нашей стране события пойдут когда-нибудь таким же путем.
Однако есть множество признаков, казавшихся тогда "чисто немецкими", а ныне вполне характерных и для Англии, которые можно расценить как симптомы той же болезни.
Самый существенный из них мы уже упоминали. Это смыкание правых с левыми по экономическим вопросам и их общее противостояние либерализму.
Крепнущий день ото дня культ государства, восхищение властью, гигантомания, стремление организовать все и вся (мы теперь называем это "планированием") и полная неготовность предоставить вещи их собственному естественному развитию — все это присутствует сегодня в английской действительности в не меньшей степени, чем в свое время в Германии.
Чтобы убедиться, насколько далеко зашла за последние двадцать лет Англия по пути, намеченному Германией, достаточно обратиться к работам, написанным во время прошлой войны: "С индивидуализмом надо покончить раз и навсегда. Должна быть создана система регуляции, объектом которой будет не счастье отдельного человека, но укрепление организованного единства государства с целью максимального повышения эффективности. Нация превратится в "самостоятельное единство" и станет тем, чем ей надлежит быть согласно Платону — "воплощением человека в большом". Старый, отмирающий подход к развитию промышленности, основанный на выгоде, уступит место подходу, основанному исключительно на власти."
Однако не только идеи, но и принципы тоталитаризма как такового завладевают ныне умами в демократических странах.
Никакое общее описание не может передать поразительного сходства идей, получивших ныне распространение в английской политической литературе, со взглядами, подорвавшими в свое время в Германии веру в устои западной цивилизации и создавшими атмосферу, в которой мог добиться успеха нацизм.
Сходство это проявляется не только в содержании, но и (пожалуй, даже в большей степени) в стиле обсуждения проблем, в готовности ломать все культурные связи и традиции, делая ставку на один конкретный эксперимент.
Не очень корректно выделять в качестве иллюстрации нескольких авторов там, где речь могла бы идти о сотнях их единомышленников, но я не вижу другого пути, чтобы продемонстрировать, как далеко зашло уже развитие этих идей и попытаюсь таким образом передать интеллектуальный климат, в котором зарождаются тоталитарные идеи.
Профессор Карр честно признается, что он является последователем "реалистической "исторической школы", ведущей свое происхождение из Германии. Реалист, как он побъясняет — это "тот, кто рассматривает мораль как функцию политики". Иными словами, значение имеет только целесообразность, и даже "правило pacta sunt servanda (договоры должны соблюдаться (лат.) — один из принципов международного права. (прим. пер.)) не является моральным принципом". "Мы более не видим смысла в привычном для XIX в. разграничении общества и государства".
С фанатизмом, свойственным всем псевдоисторикам начиная с Гегеля и Маркса, отстаивает он неизбежность такого развития событий: "Мы знаем, в каком направлении движется мир, и мы должны подчиниться этому движению или погибнуть".
Уверенность в неизбежности этой тенденции базируется на уже знакомых нам экономических недоразумениях — на предположении о неотвратимом росте монополий как следствии технологического развития, на обещании "потенциального изобилия" и других уловках, которыми щедро приправлены работы такого рода.
Ещё одна его мысль: "Будущее за Grossraumwirtschaft — крупномасштабным хозяйством немецкого типа, и достичь желаемых результатов можно только путем сознательной реорганизации европейской жизни, примером которой является деятельность Гитлера."
После всего этого у читателя уже не вызывает удивления примечательный раздел, озаглавленный "Нравственные функции войны", в котором профессор Карр снисходит до жалости к "добропорядочным людям (особенно — жителям англоязычных стран), которые, находясь в плену традиций XIX в., по-прежнему считают войну делом бессмысленным и бесцельным". Сам же автор, наоборот, упивается "ощущением значительности и целесообразности" войны — этого "мощнейшего инструмента сплочения общества".
Одна из тенденций в интеллектуальном развитии Германии — призыв ученых к "научной" организации общества. И то, что в конце концов ученые мужи этой страны (за исключением очень немногих) с готовностью пошли на службу новому режиму, является одним из самых печальных и постыдных эпизодов в истории возвышения национал-социализма.
Именно ученые и инженеры, которые на словах всегда возглавляли поход к новому и лучшему миру, прежде всех других социальных групп подчинились новой тирании.
Утверждая, что ученый способен управлять тоталитарным обществом, д-р Уоддингтон исходит главным образом из того, что "наука может выносить нравственные суждения о человеческом поведении", за что, среди прочего, получает самую горячую поддержку в журнале "Нейчур".
Описывая существующие в Англии тоталитарные тенденции, следовало бы для полноты картины остановиться еще на различных попытках создания своего рода социализма для среднего класса, удивительно похожих на то, что происходило в догитлеровский период в Германии.
Помимо интеллектуальных влияний, проиллюстрированных нами на двух примерах, главными движущими силами, ведущими наше общество к тоталитаризму, выявляются две большие социальные группы: объединения предпринимателей и профсоюзы.
Обе они стремятся к монополистической организации промышленности и для достижения этой цели часто согласуют свои действия. Это чрезвычайно опасная тенденция. У нас нет оснований считать ее неизбежной, но если мы и дальше будем двигаться по этой дороге, она, без сомнения, приведет нас к тоталитаризму.
Движение это, конечно, сознательно спланировано главным образом капиталистами — организаторами монополий, от которых тем самым и исходит основная опасность. И отнюдь не снимает с них ответственности тот факт, что целью их является не тоталитарное, а скорее корпоративное общество, в котором организованные отрасли будут чем-то вроде относительно независимых государств в государстве. Но они недальновидны, как и их немецкие предшественники, ибо верят, что им будет позволено не только создать такую систему, но и управлять ею сколько-нибудь длительное время.
Есть серьезные основания для сомнений, что даже в тех случаях, когда монополия является неизбежной, лучшим способом контроля является передача ее государству.
Если бы речь шла о какой-то одной отрасли, это, быть может, и было бы верно. Но если мы имеем дело со множеством монополизированных отраслей, то по целому ряду причин лучше отдать их в частные руки, чем оставлять под опекой государства.
Частная монополия почти никогда не бывает полной и уж во всяком случае не является вечной или гарантированной от потенциальной конкуренции, в то время как государственная монополия всегда защищена — и от потенциальной конкуренции, и от критики.
Ибо критика монополий является одновременно критикой правительства, вряд ли можно надеяться, что монополии будут по-настоящему служить интересам общества.
Механизмы монополий станут тождественными механизмам самого государства, которое все больше и больше будет служить интересам аппарата, но не интересам общества в целом.
Пожалуй, если монополии в каких-то сферах неизбежны, то лучшим является решение, которое до недавнего времени предпочитали американцы, — контроль сильного правительства над частными монополиями.
Но даже если в результате таких мер эффективность деятельности в монополизированных отраслях будет снижаться, лично я, например, предпочел бы мириться с неэффективностью, чем испытывать бесконтрольную власть монополий над различными областями моей жизни.
Поставьте монополиста в положение "мальчика для битья" (в экономическом смысле), и вы увидите, как быстро способные предприниматели вновь обретут вкус к конкуренции.
Именно поддержка левых сил делает тенденцию к монополизации столь сильной, а наши перспективы — столь мрачными. Профсоюзные лидеры, заявляющие сегодня, что "с конкурентной системой покончено раз и навсегда", возвещают конец свободы личности.
Надо понять, что мы подчиняемся либо безличным законам рынка, либо диктатуре какой-то группы лиц. Третьей возможности нет.
Даже если в случае победы второй системы некоторые рабочие станут лучше питаться и получат, без сомнения, красивую униформу, я все же сомневаюсь, что большинство трудящихся Англии останутся в конце концов благодарны интеллектуалам из числа их лидеров, навязавшим им социалистическую доктрину, чреватую личной несвободой.
Четверть века назад существовало еще, возможно, какое-то извинение для наивной веры, что "плановое общество может быть гораздо более свободным, чем либеральное конкурентное общество. Но повторять это, имея за плечами двадцатипятилетний опыт проверки и перепроверки этих убеждений, повторять в тот момент, когда мы с оружием в руках боремся против системы, порожденной этой идеологией, — поистине трагическое заблуждение.
XIV. Материальные обстоятельства и идеальные цели
Сложная цивилизация предполагает, что индивид должен приспосабливаться к переменам, причины и природа которых ему неизвестны. Человеку не ясно, почему его доходы возрастают или падают, почему он должен менять занятие, почему какие-то вещи получить становится труднее, чем другие, и т.д. Те, кого это затрагивает, склонны искать непосредственную, видимую причину, винить очевидные обстоятельства, в то время как
реальная причина тех или иных изменений коренится обычно в системе сложных взаимозависимостей и скрыта от сознания индивида.
Только подчинение безличным законам рынка обеспечивало в прошлом развитие цивилизации, которое в противном случае было бы невозможным. Лишь благодаря этому подчинению мы ежедневно вносим свой вклад в создание того, чего не в силах вместить сознание каждого из нас в отдельности.
Может оказаться, что если никто в нашем обществе не станет делать того, чего он до конца не понимает, то только для поддержания нашей цивилизации на современном уровне сложности каждому человеку понадобится невероятно мощный интеллект, которым в действительности никто не располагает. Отказываясь покоряться силам, которых мы не понимаем и в которых не усматриваем чьих-то сознательных действий или намерений, мы впадаем в ошибку, свойственную непоследовательному рационализму.
Единственной альтернативой подчинению безличным и на первый взгляд иррациональным законам рынка является подчинение столь же неконтролируемой воле каких-то людей.
Некоторые утверждают, что, научившись управлять силами природы, мы все еще очень плохо умеем использовать возможности общественного сотрудничества. Это правда. Однако обычно из этого утверждения делают ложный вывод, что мы должны теперь овладевать социальными силами точно так же, как овладели силами природы. Это не только прямая дорога к тоталитаризму, но и путь, ведущий к разрушению всей нашей цивилизации. Но сохранить наши завоевания можно, лишь координируя усилия множества индивидов с помощью безличных сил.
Свобода личности несовместима с главенством одной какой-нибудь цели, подчиняющей себе всю жизнь общества.
Главным условием развития является готовность приспособиться к происходящим в мире переменам, невзирая ни на какие привычные жизненные стандарты отдельных социальных групп.
Свобода совершать поступки, когда материальные обстоятельства навязывают нам тот или иной образ действий, и ответственность, которую мы принимаем, выстраивая нашу жизнь по совести, — вот условия, необходимые для существования нравственного чувства.
Чтобы мораль была не "пустым звуком", нужны ответственность — не перед вышестоящим, но перед собственной совестью,
сознание долга, не имеющего ничего общего с принуждением, необходимость решать, какие ценности предпочесть, и способность принимать последствия этих решений.
Движение, провозгласившее одной из своих целей освобождение от личной ответственности не могло не стать аморальным, какими бы ни были породившие его идеалы.
Есть добродетели, которые сегодня не в цене: независимость, самостоятельность, стремление к добровольному сотрудничеству с окружающими, готовность к риску и к отстаиванию своего мнения перед лицом большинства. Это как раз те добродетели, благодаря которым существует индивидуалистическое общество. Коллективизм ничем не может их заменить. А в той мере, в какой он уже их разрушил, он создал зияющую пустоту, заполняемую лишь требованиями, чтобы индивид подчинялся принудительным решениям большинства.
И когда нам все чаще напоминают, что нельзя приготовить яичницу, не разбив яиц, то в роли яиц выступают обычно те ценности, которые поколение или два назад считались основами цивилизованной жизни.
Независимость и самостоятельность, инициативность и ответственность, умение многое делать добровольно и не лезть в дела соседа, терпимость к людям странным, непохожим на других, уважение к традициям и здоровая подозрительность по отношению к властям — это добродетели, ценимые нами все меньше и становящиеся поэтому все более редкими.
Ни благие намерения, ни эффективная организация не сохранят человечности в системе, где отсутствуют свобода и ответственность личности.
XV. Каким будет мир после войны?
Один из уроков недавнего времени, который постепенно доходит до нашего сознания, заключается в том, что различные системы экономического планирования, реализуемые независимо друг от друга в отдельных странах, не только губительно сказываются на состоянии экономики как таковой, но также приводят к серьезному обострению международных отношений.
Сегодня уже не надо объяснять, что, пока каждая страна может осуществлять в своих интересах любые меры, которые сочтет необходимыми, нельзя надеяться на сохранение прочного мира.
А поскольку многие виды планирования возможны только в том случае, если властям удается исключить все внешние влияния, то результатом такого планирования становятся ограничения передвижения людей и товаров.
В наши дни получила распространение поистине фатальная иллюзия, что, проводя переговоры между государствами или организованными группами по поводу рынков сбыта и источников сырья, можно добиться снижения международной напряженности. Этот путь ведет к тому, что силовые аргументы окончательно вытеснят то, что лишь метафорически называется "конкурентной борьбой". В результате вопросы, которые между индивидами никогда не решались с позиций силы, будут решаться в противоборстве сильных и хорошо вооруженных государств, не контролируемых никаким высшим законом.
Экономическое взаимодействие между государствами, каждое из которых само является высшим судьей своих действий и руководствуется только своими актуальными интересами, неизбежно приведет к жестоким межгосударственным столкновениям.
Те, кто хотя бы отчасти сознает эту опасность, приходят обычно к выводу, что экономическое планирование должно быть "международным" и осуществляться некими наднациональными властями. Но проблемы, возникающие в результате сознательного управления экономикой отдельной страны, при переходе к международным масштабам усугубляются многократно. Конфликт между планированием и свободой не может не стать более глубоким, когда возрастет разнообразие жизненных стандартов и ценностей, которые должны быть охвачены единым планом.
По мере увеличения размеров группы согласие между ее членами по поводу иерархии целей будет все меньше, и соответственно будет расти необходимость использовать принуждение.
В небольшом сообществе существует согласие по многим вопросам с общими оценками и ценностями. Но чем шире мы будем раскидывать сети, тем больше найдется у нас причин использовать силу.
Пока речь идет о том, чтобы помогать людям, чьи жизненные устои и образ мыслей нам знакомы, всё более или менее хорошо. Но чтобы понять, что в более широких масштабах моральные критерии, необходимые для такого рода взаимопомощи, совершенно исчезают, достаточно вообразить проблемы, которые встанут в ходе экономического планирования хотя бы такой области, как Западная Европа.
Неужели кто-то может помыслить такие общезначимые идеалы справедливого распределения, которые заставят норвежского рыбака отказаться от перспектив улучшения своего экономического положения, чтобы помочь своему коллеге в Португалии, или голландского рабочего — покупать велосипед по более высокой цене, чтобы поддержать механика из Ковентри, или французского крестьянина — платить более высокие налоги ради индустриализации в Италии?
Если те, кто предлагает все это осуществить, отказываются замечать эти проблемы, то только потому, что, сознательно или бессознательно, они полагают, что станут сами решать эти вопросы за других, и считают себя способными делать это справедливо и беспристрастно.
Международное планирование в гораздо большей степени, чем планирование в масштабах одной страны, будет неприкрытой диктатурой, разгулом насилия и произвола, осуществляемого небольшой группой, навязывающей всем остальным свои представления о том, кто к чему пригоден и кто чего достоин.
Чтобы осуществлять управление экономической жизнью людей, обладающих крайне разнообразными идеалами и ценностями, надо принять на себя ответственность применения силы.
Людей, которые поставили себя в такое положение, даже самые благие намерения не могут уберечь от необходимости действовать так, что те, на кого направлены эти действия, будут считать их в высшей степени аморальными.
Это верно даже в том случае, если высшие власти будут отличаться крайней степенью идеализма и альтруизма. Но как ничтожно мала вероятность альтруистической власти, как велики оказываются здесь искушения!
В последнее время приходится часто слышать не слишком внятные рассуждения о "планировании во имя выравнивания различных жизненных уровней". Но если мы собираемся поднимать уровень жизни людей по единому плану, мы должны как-то взвесить и увязать одно с другим множество аспектов. И когда такой план будет принят к исполнению, все ресурсы данного региона окажутся подчиненными содержащимся в нем указаниям, и никто уже не сможет действовать по своему усмотрению, даже если видит не предусмотренные планом пути улучшения своего материального положения.
Если запросы какой-то группы не получают приоритетного статуса, то члены этой группы вынуждены трудиться для удовлетворения запросов тех, кому было отдано предпочтение.
Предпринимать такие действия в регионе, густо населенном малыми народами, каждый из которых считает себя выше остальных, значит заранее обречь себя на применение насилия. Не надо быть экспертом в области психологии народов Центральной Европы (и даже просто в области психологии), чтобы понять, что, как бы ни были установлены приоритеты, недовольных будет много, скорее всего большинство.
Тем не менее есть много людей, искренне убежденных, что если им будет доверена такая задача, то они окажутся в состоянии решить все проблемы беспристрастно и справедливо. Они будут страшно удивлены, обнаружив, что являются объектом ненависти и подозрений. И именно такие люди первыми пойдут на применение силы, когда те, кому они намеревались помочь, ответят на это непониманием и неблагодарностью.
Это опасные идеалисты, и они будут безжалостно насаждать все, что, по их мнению, соответствует интересам других.
Они просто не подозревают, что, когда они берутся силой навязывать другим людям нравственные представления, которых те не разделяют, они рискуют попасть в положение, в котором им придется действовать безнравственно.
Невозможно осуществлять справедливость и помогать людям, если центральные власти распределяют ресурсы и рынки сбыта и если каждая инициатива должна получать одобрение сверху. И поскольку практически все что угодно можно представить как "техническую необходимость", недоступную пониманию неспециалиста, или обосновать гуманистическими соображениями, ссылаясь на ущемленные интересы какой-нибудь социальной группы (что может быть даже недалеко от истины), то контролировать эту власть оказывается невозможно.
Проекты объединения мировых ресурсов под эгидой специального органа, вызывающие ныне одобрение в самых неожиданных кругах, т.е. создания системы всемирных монополий, признаваемых правительствами всех стран, но ни одному из них не подчиненных, грозят привести к созданию зловещей мафии, занимающейся крупномасштабным рэкетом, даже если люди, непосредственно ее возглавляющие, будут честно блюсти вверенные им общественные интересы.
Удивительно наблюдать, как люди, изображающие из себя закоренелых прагматиков, не упускающие ни одной возможности посмеяться над "утопизмом" тех, кто верит в перспективы политического упорядочения международных отношений, убеждены, что если наделить международное правительство невиданной доселе властью, не сдерживаемой, как мы видели, даже принципами правозаконности, то власть эта будет использоваться таким альтруистическим и справедливым образом, что все ей с готовностью подчинятся.
Если даже под гипнозом этих иллюзорных идей народы вначале и согласятся наделить такой властью международное правительство, то очень скоро они обнаружат, что делегировали этому органу вовсе не разработку технических вопросов, а власть решать свою судьбу.
Примечательно, что самые горячие сторонники централизованного экономического "нового порядка" в Европе демонстрируют полное пренебрежение к правам личности и к правам малых народов.
В послевоенном мире нужна сила, которая предотвращала бы действия отдельных государств, наносящие прямой ущерб их соседям, — какая-то система правил, определяющих, что может делать государство, и орган, контролирующий исполнение этих правил. Власть этого международного органа будет минимальной, необходимой для сохранения мирных взаимоотношений, характерных для ультралиберального государства. И даже в большей степени, чем на национальном уровне, должны здесь действовать принципы правозаконности.
Федеративный принцип является единственной формой объединения различных народов, способной упорядочить взаимоотношения между странами, никак не ограничивая их законного стремления к независимости.
Федерализм — это, конечно, не что иное, как приложение к международным отношениям принципов демократии — единственного способа осуществлять мирным путем перемены, изобретенного пока человечеством.
Федерация ограничивает международное планирование областью, в которой может быть достигнуто полное согласие, и не только между непосредственно заинтересованными сторонами, но между всеми, кого это может затрагивать.
Восстанавливая нашу цивилизацию, мы должны избежать гигантомании. Мы не сможем сохранять и развивать демократию, если власть принимать важнейшие решения будет сосредоточена в организации, слишком масштабной, чтобы ее мог охватить своим разумом обычный человек.
Только там, где человек руководствуется в своих действиях не теоретическими знаниями о нуждах людей, а умением понимать реальные нужды своего соседа, он может по-настоящему войти в общественную жизнь.
Мы бы все выиграли, если бы нам удалось создать мир, в котором себя хорошо чувствовали малые страны. Однако небольшие государства смогут сохранить независимость — внутреннюю и внешнюю — только при условии, что будет по-настоящему действовать система международного права, гарантирующая, во-первых, что соответствующие законы будут соблюдаться, а во-вторых, что органы, следящие за их соблюдением, не будут использовать свою власть в других целях.
Мы никогда не сможем предотвратить злоупотребление властью, если не будем готовы ограничить эту власть, пусть даже затрудняя этим решение стоящих перед ней задач.
Международные принципы правозаконности должны стать средством как против тирании государства над индивидом, так и против тирании нового супергосударства над национальными сообществами.
Однако стремясь всеми силами предотвратить будущие войны, мы не должны испытывать иллюзии, что можно однажды, раз и навсегда создать организацию, которая сделает невозможной войну в любой части света. Максимум, на что мы можем разумно рассчитывать, — это снизить риск возможных конфликтов, ведущих к войне.
Полный текст книги вы можете найти тут:
http://libertarium.ru/l_lib_road_vv.html